
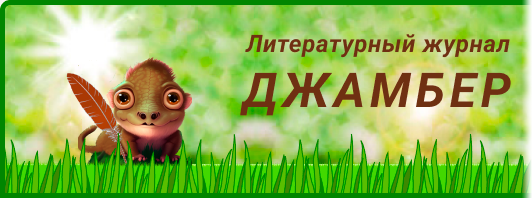 |

|
Весна! Царит весна на целом свете!
Любовных слов чудесная пора!..
А мы сидим в плену на факультете –
Нас учат быть акулами пера.
И в сотый раз нам, бедным, повторяют,
Что мы должны на общество влиять,
Что имена в статье не сокращают,
За это строго будут, мол, карать…
Но где-то там, за дверью факультета,
Без социальных и иных проблем,
Сияет солнце нового рассвета,
И Саша К. встречает Машу М.
Любовь – не в рамках жанра, как известно,
И смысла в этом нет, наверняка.
И обществу совсем неинтересно,
Как Маша М. влюбилась в Сашу К.
Не по канону выстроены мысли,
Весь мир открыт пылающим сердцам,
И жизнь для них таким сияет смыслом,
«Что и не снилось нашим мудрецам»...
…А нас опять на лекциях стращают,
(Дай бог поймать утраченную мысль!)
О том, что имена не сокращают,
И что-то там про социальный смысл.
***
Вышла. Наверное, будет метель…
С вечера радио о снегопаде…
А я всё лежал, согревая постель,
И волосы русые трепетно гладил.
Я думал, что скоро наступит рассвет.
Боялся вздохнуть – ненароком проснётся,
Даря чуть рассеянный, заспанный свет,
Моё присмиревшее с вечера солнце.
Боялся её, как жар-птицу, спугнуть,
Боялся дыхания, робкого взгляда
И думал, что сложно, наверно, уснуть
От сердца, стучащего трепетно рядом.
…Но вот – чуть вздохнули ресницы… подлез
Серебряный свет под края занавески.
Подкрался и вспыхнул, ревнивый подлец!
И радио звук неоправданно резкий
Взъерошил и вырвал, как ереси лист,
Её с простыней неостывшей тетради.
Останься, помилуй! Молю: задержись
На миг – ради взгляда и голоса, ради…
Но знаю, тебе, мой предутренний рок,
Аврора, Мерцана, богиня рассвета,
Истомная свежесть январских дорог
Конечно, дороже признаний поэта.
Ты в новое утро с игривым лучом
Ворвёшься, сияя неистовым танго.
Помада… и сумочка через плечо…
Прощай, мой непрошенный ветреный ангел.
Помедлив, на фоне дверного листа
Застыла – её и запомню такую –
И вышла за окна… Одна. Без зонта.
А радио всё о метели толкует…
***
Вот и свиделись, Отче. К тебе я последним предвестником,
Как вернувшийся с трудного боя усталый солдат.
Расстегну гимнастёрку над старым серебряным крестиком,
Ты когда-то давал мне её напрокат.
Напрокат…
Эта грубая ткань сквозь века проходила дремучие,
То плащом обращаясь, то гладью заморской парчи,
И меняла хозяев, скитаясь от случая к случаю,
Выгорая от света костра и свечи.
И свечи…
Кто носил до меня, был, наверно, заядлым охотником.
Он в подкладке оставил тяжелый отточенный нож
И цветок с одурманенной жаром и ветрами Корсики.
Исцарапали оба мне грудь. Ну и что ж?
Ну и что ж…
А другой был поэтом, беспечным и дерзким парнишкою,
Он в Париже гулял, только был одинок меж людьми.
Он чернилами залил манжеты с нарядной манишкою,
Я не смог разобрать ни строки, извини…
Извини.
Мой черёд наступает… Да только не гневайся, Господи,
Не умею носить осторожно такую шинель.
Вся на дерганых шрамах, в прорехах, заплатах и копоти,
Истрепалась душа. Ей бы жить не теперь,
Не теперь.
Не ищи, умоляю, хозяина старому платию,
Сам ведь знаешь – жестокие ветры шумят впереди.
Не защита она, не доспехи ему и не мантия.
Ну кому Ты такую отдашь? Пощади.
Пощади.
Ну а если решишь отыскать ей другого хозяина,
Как уйду я к последней реке искупаться нагим,
Ты отдай ему крестик мой, слышишь, Отец, обязательно
Вместе с этой рубахой. Он брат мой навеки.
Аминь.
|
|